Черная желчь
Меланхолия
Раз, два, три
Серия была снята в 2018 году и состоит из трех амбротипов 13х18 см, оформленных в рамы.
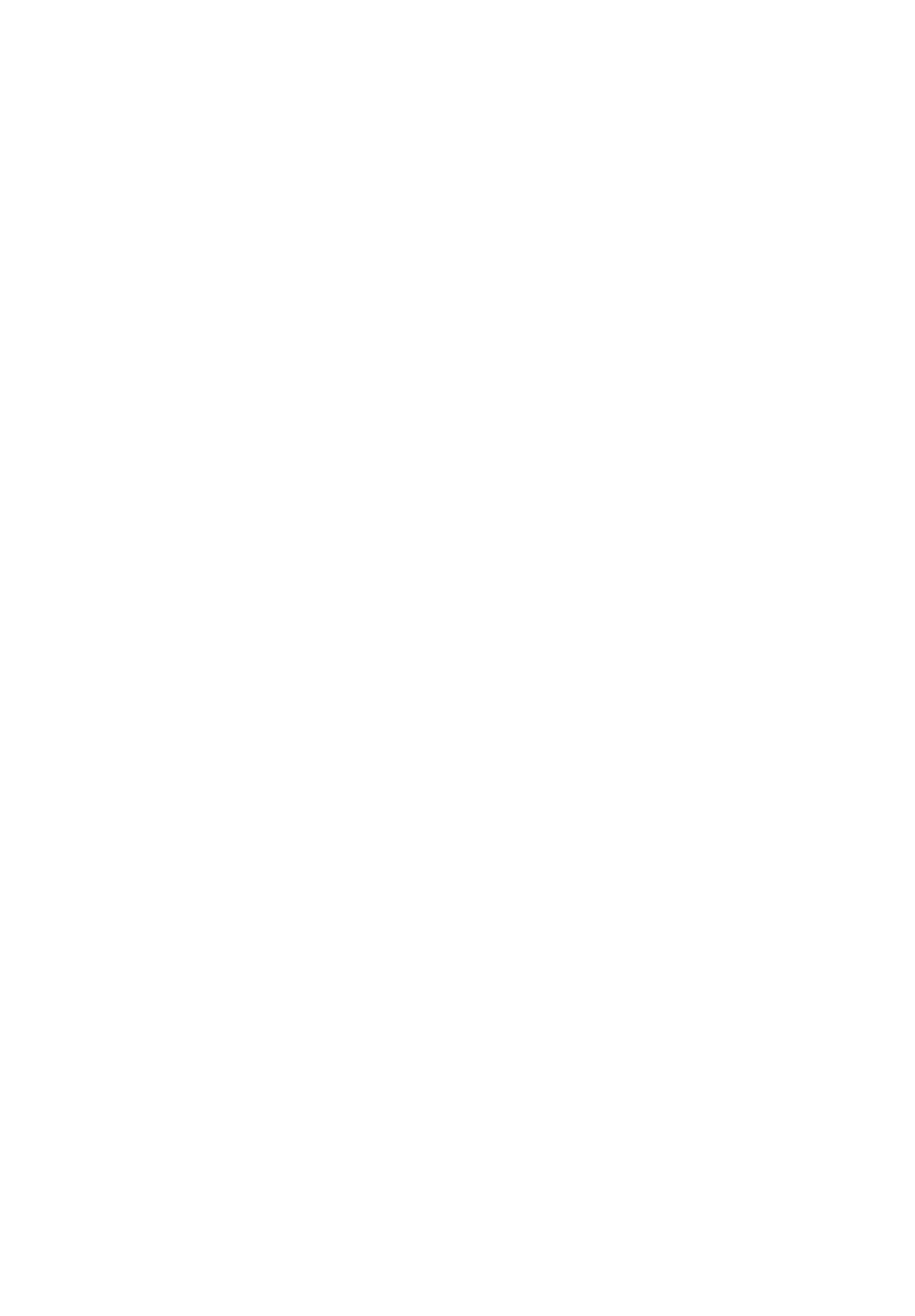
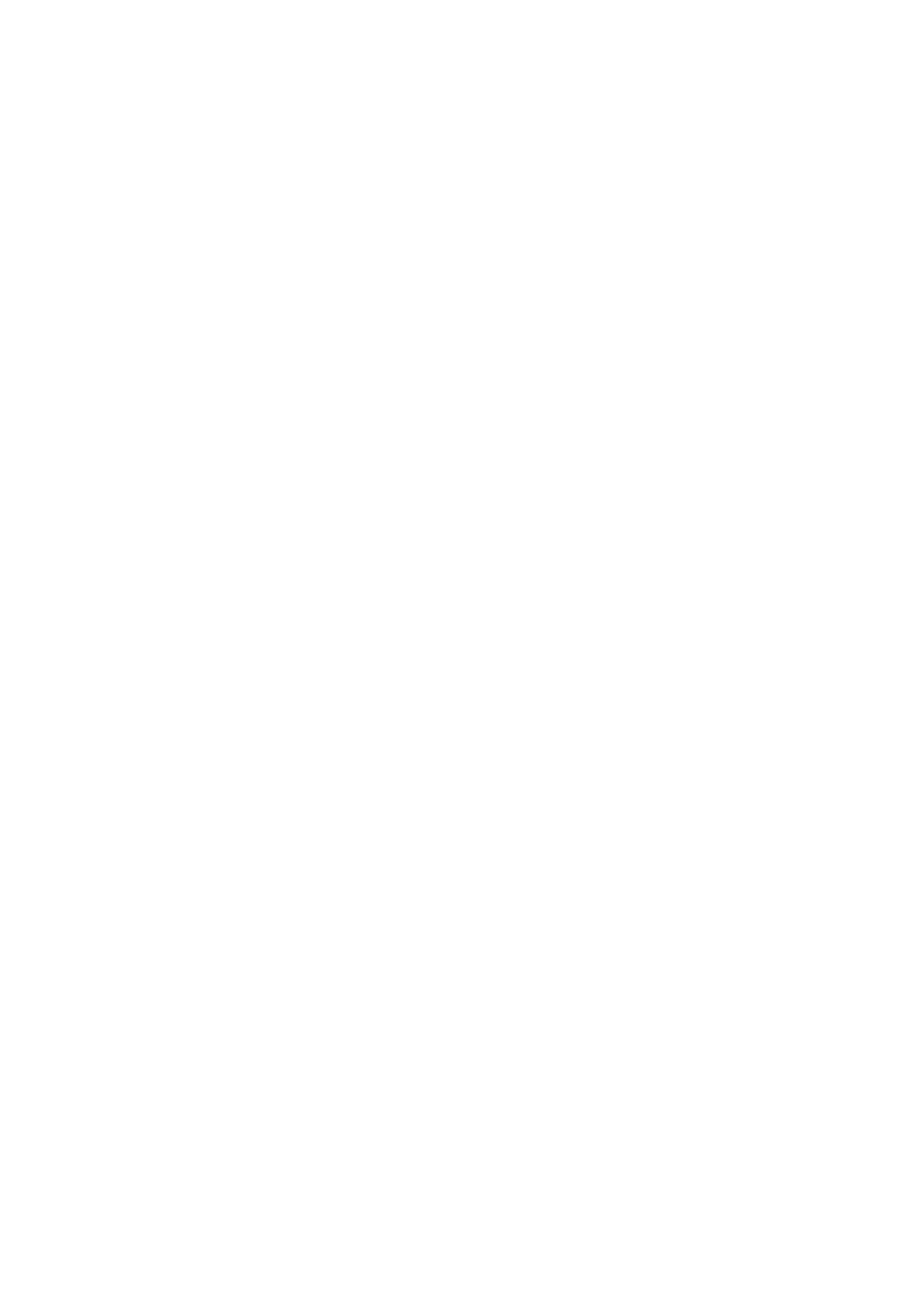
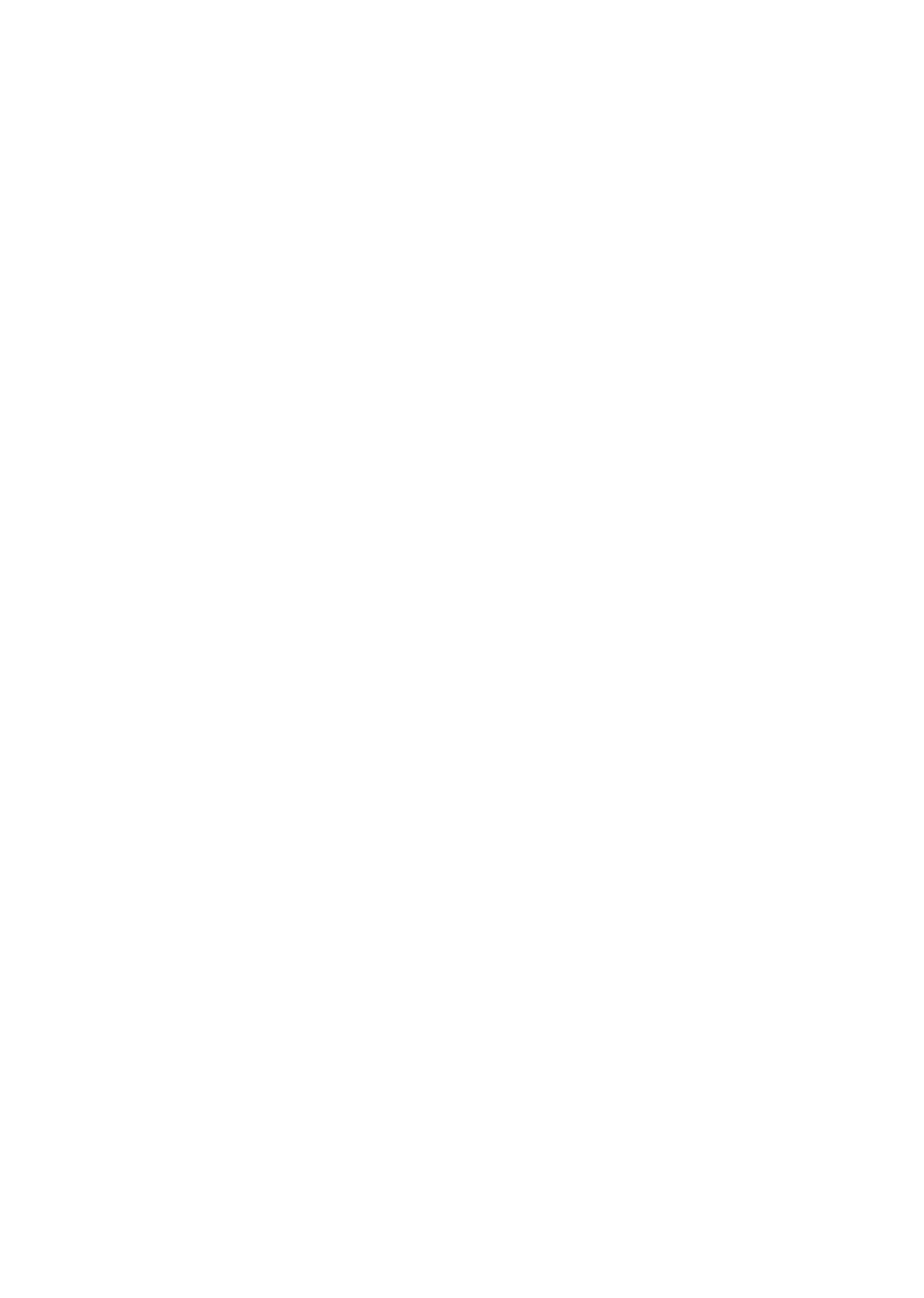
Меланхолия - раз, два, три
Куда я подевала ту книгу? Помню, в детстве нашла ее в мамином книжном шкафу. Это был сборник работ Альбрехта Дюрера. Помню, как мне нравилось рассматривать его всадников апокалипсиса. Потом мой интерес добрался и до текста, но загадочные картинки были интереснее. Я много болела. Время проводила у бабушки на кровати под полкой с художественными альбомами и книгами об искусстве преимущественно эпохи Возрождения.
Бабушка капала мне в нос какое-то доморощенное дерьмо от насморка. Эта дрянь безжалостно выжигала мне носоглотку. Было очень больно. Фактически, это и книжки с репродукциями - все, что я поверхностно помню о том времени. Бабушка ложилась поздно, вставала ближе к полудню, и по утрам, свободным от ее жестокой диктатуры, мне было совершенно нечего делать. Прекрасное время: я смотрела всех этих распятых Иисусов, мадонн с младенцами и животными, духов рек, святых и муз - бесконечный поток религиозного вдохновения и божественного мастерства. Учительница в школе дала нашему классу задание по очереди называть имя художника эпохи Возрождения. Начали с первой парты в первом ряду, до меня очередь так и не дошла, запнувшись на том же ряду, а я смогла бы назвать многих.
- Кто ваш любимый художник? - спрашивает меня учительница французского. Разговор, ломаясь о мой скудный словарный запас, зашел об искусстве. Я говорю - Дюрер. Оооуффф! - издает она странный, но одобрительный звук, будто бы ожидала услышать от меня чего-то вроде Шишкина или Васнецова. Врубеля, может быть. Не знаю, что можно требовать в таком случае от восьмиклассницы.
Помню, как несу эту книгу дать одногруппнице в институте. Хотела поделиться с ней своим восхищением, но она вернула мне ее через пару дней с недоумением и словами, что это too much для нее. Где же эта книга? Надо поискать. Я давно не видела всадников в том виде, в каком смотрела на них в детстве. Интересно было бы узнать, как много изменилось в них с тех пор. С другой стороны, сейчас я опасаюсь перечитывать своих любимых авторов. Они сделали свое дело тогда, шипами слов прошили мое сознание, дали новый ритм сердцебиению и вряд ли смогут вновь такое повторить. Стоит ли теперь тревожить старых идолов, чтобы увидеть, как сильно они поблекли? Пусть сами рассыплются в пыль.
В последнее время я возвращаюсь к другой гравюре мастера. Меланхолия мелькает в разговорах с подругами, при чтении или в ненавязчивом мысленном flow, когда я брожу по улицам.
Ольга говорит: один мой случайный любовник назвал нас черными русскими.
- Коктейлями? - спрашиваю.
- Да ну нет. Есть нормальные русские, а есть мрачные и депрессивные, как Достоевский, Лесков и даже Чехов. У которых все всегда плохо.
Люди с черным взглядом и мрачным нутром идут по узкой тропинке между отчаянием и апатией, ведут вечный бой со своим безумием в надежде поставить его себе на службу. Люди, порабощенные призраком познаваемости абсолютного, абстрактного, недосягаемого. Современные неоплатоники, истекающие кровью на скалах постмодернизма, чья неравная борьба забирает слишком много сил, ломает и топит в собственной черной желчи. Никто не увидит ни побед, ни поражений. Никто и не покажет. Как можно увидеть пустоту в темноте? Взбухшую, налитую, густую пустоту. Ее можно разве что описать формулами - безграничные возможности математики, - но только пожирающее изнутри чувство может дать истинное понимание этого проклятия осознаваемого несовершенства, эту неутихающую боль, унаследованную от мук матери и ведущую всю жизнь прямо в ад.
- Ты это специально, - говорит любимый, - чтобы поддержать творческую энергию.
Нет, мой друг, это шевелит щупальцами моя жирная, жгучая, живучая пустота. Она причина всего. Ты говоришь, я ищу в мире то, чего в нем нет. Нет. Я хочу видеть в мире то, что не увидят другие. Жизнь - это поиск: еды, секса, покоя, иного. Смотреть, проникать, шарить, ковырять землю томительно и долго. Я ищу упорно, подбираю ключи ко вселенной, а они ломаются каждый раз, как я, кажется, в шаге от изысканнейшего из всех удовольствий - понимания сути вещей. Снова и снова. Кипит черная желчь.
Я люблю, когда сложно, люблю, когда непонятно, когда есть ошибка. Мне знаком этот отстраненный задумчивый взгляд крылатой женщины. Знакомо и то, что скрыто за ним, и каменная неподвижность фигуры в скрытой внутри агонии созерцания. Если смотреть на мир прямо и холодно, то все прекрасно видно. И я прекрасно видна. Солнце смотрит на меня прямо и холодно, выбеливает цвета и обращает тени в уголь. За домом слышу бульканье и шелест голубей. Их перья становятся синими на фоне ярко-зеленой травы. Выхлопной воздух горячит, невозможно вздохнуть.
Тихо! кричит мать на плачущего ребенка.
Тихо! кричит бабка из окна на алкашей во дворе.
Тихо! кричит хозяйка на залившуюся лаем собаку.
Тихо! Тихо! Тихо! но летний веселый галдеж бьется стеклянными брызгами о кирпичные стены старых домов. А вокруг только разговоры о том, кто, что и как ел, будто бы это единственное, чем действительно стоит занять себя в этой жизни.
Смотрите, боги спустились с небес. Они тихо и мягко ступают по сорванным ветром, кружащим в теплом золотом воздухе лепесткам яблоневых цветов. Следы их земного пути рассыпаны желтыми одуванчиками по зеленому полю. Совсем скоро они побелеют и испарятся. Мимо бредут опоры ЛЭП, похожие на гигантских насекомых.
В учениях неоплатоников человек изображен каким-то протяженным или, может быть, растянутым через всю вселенную убывающего совершенства. От anima prima, высшей души, тянутся жилы чувственной anima secunda к низменному corpus - результату божественного воздействия на бесформенную, сырую материю. Мне еретически видится плотный спектр от синего к красному. И невозможно разделить полутона, где заканчивается красное тело и начинается синяя душа. Бесконечное блуждание вперед-назад. Материя, стремясь в бесформенное состояние, оскверняет величие и совершенство разума. Мироздание движется, чтобы застыть.
Неудивительно, что красный продержался в тени вплоть до 20-го века, на излете которого был смешан с дерьмом и приобрел тошнотворно желтый вид. Все, что осталось от красного - пожранный червями кусок сгнившего мяса. Вот он, ваш материализм.
Я не люблю красный. Просто он сейчас преследует меня. Красный - цвет моей мигрени. Цвет лопнувших капилляров в ослепших от усталости глазах любимого. Красный лежит в начале любви и в ее окончании. Красный - цвет моей меланхолии. Цвет моего покоя. Тускло горит фонарь в фотолаборатории. Пузырь красного света давит на рыхлую темноту. Черная желчь кипит внутри, выходит с паром моего дыхания и оседает серебром на отполированное коллодионное стекло. И все вокруг превратилось в градации серого, фактуру, композицию и контраст. Я делаю картинки и буду делать их до тех пор, пока не станет нестерпимо больно от накопившихся внутри меня слов. Пока они не начнут крушить мне ребра, продираясь наружу к белому свету чистого листа. Я выплевываю их, как выбитые зубы, и они скачут по бумаге, оставляя за собой нервный красный след. И станет легче, потому что наступит постепенно тишина и время делать картинки. А за границей резкости, чуть правее, под тенью Сатурна, сидит без действия задумчивая женщина с ключами от всех дверей во вселенной. Этот мир замер за секунду до того, как ворвутся в него всадники апокалипсиса. Тихо! Уже слышен стук копыт.
2018 год.
Бабушка капала мне в нос какое-то доморощенное дерьмо от насморка. Эта дрянь безжалостно выжигала мне носоглотку. Было очень больно. Фактически, это и книжки с репродукциями - все, что я поверхностно помню о том времени. Бабушка ложилась поздно, вставала ближе к полудню, и по утрам, свободным от ее жестокой диктатуры, мне было совершенно нечего делать. Прекрасное время: я смотрела всех этих распятых Иисусов, мадонн с младенцами и животными, духов рек, святых и муз - бесконечный поток религиозного вдохновения и божественного мастерства. Учительница в школе дала нашему классу задание по очереди называть имя художника эпохи Возрождения. Начали с первой парты в первом ряду, до меня очередь так и не дошла, запнувшись на том же ряду, а я смогла бы назвать многих.
- Кто ваш любимый художник? - спрашивает меня учительница французского. Разговор, ломаясь о мой скудный словарный запас, зашел об искусстве. Я говорю - Дюрер. Оооуффф! - издает она странный, но одобрительный звук, будто бы ожидала услышать от меня чего-то вроде Шишкина или Васнецова. Врубеля, может быть. Не знаю, что можно требовать в таком случае от восьмиклассницы.
Помню, как несу эту книгу дать одногруппнице в институте. Хотела поделиться с ней своим восхищением, но она вернула мне ее через пару дней с недоумением и словами, что это too much для нее. Где же эта книга? Надо поискать. Я давно не видела всадников в том виде, в каком смотрела на них в детстве. Интересно было бы узнать, как много изменилось в них с тех пор. С другой стороны, сейчас я опасаюсь перечитывать своих любимых авторов. Они сделали свое дело тогда, шипами слов прошили мое сознание, дали новый ритм сердцебиению и вряд ли смогут вновь такое повторить. Стоит ли теперь тревожить старых идолов, чтобы увидеть, как сильно они поблекли? Пусть сами рассыплются в пыль.
В последнее время я возвращаюсь к другой гравюре мастера. Меланхолия мелькает в разговорах с подругами, при чтении или в ненавязчивом мысленном flow, когда я брожу по улицам.
Ольга говорит: один мой случайный любовник назвал нас черными русскими.
- Коктейлями? - спрашиваю.
- Да ну нет. Есть нормальные русские, а есть мрачные и депрессивные, как Достоевский, Лесков и даже Чехов. У которых все всегда плохо.
Люди с черным взглядом и мрачным нутром идут по узкой тропинке между отчаянием и апатией, ведут вечный бой со своим безумием в надежде поставить его себе на службу. Люди, порабощенные призраком познаваемости абсолютного, абстрактного, недосягаемого. Современные неоплатоники, истекающие кровью на скалах постмодернизма, чья неравная борьба забирает слишком много сил, ломает и топит в собственной черной желчи. Никто не увидит ни побед, ни поражений. Никто и не покажет. Как можно увидеть пустоту в темноте? Взбухшую, налитую, густую пустоту. Ее можно разве что описать формулами - безграничные возможности математики, - но только пожирающее изнутри чувство может дать истинное понимание этого проклятия осознаваемого несовершенства, эту неутихающую боль, унаследованную от мук матери и ведущую всю жизнь прямо в ад.
- Ты это специально, - говорит любимый, - чтобы поддержать творческую энергию.
Нет, мой друг, это шевелит щупальцами моя жирная, жгучая, живучая пустота. Она причина всего. Ты говоришь, я ищу в мире то, чего в нем нет. Нет. Я хочу видеть в мире то, что не увидят другие. Жизнь - это поиск: еды, секса, покоя, иного. Смотреть, проникать, шарить, ковырять землю томительно и долго. Я ищу упорно, подбираю ключи ко вселенной, а они ломаются каждый раз, как я, кажется, в шаге от изысканнейшего из всех удовольствий - понимания сути вещей. Снова и снова. Кипит черная желчь.
Я люблю, когда сложно, люблю, когда непонятно, когда есть ошибка. Мне знаком этот отстраненный задумчивый взгляд крылатой женщины. Знакомо и то, что скрыто за ним, и каменная неподвижность фигуры в скрытой внутри агонии созерцания. Если смотреть на мир прямо и холодно, то все прекрасно видно. И я прекрасно видна. Солнце смотрит на меня прямо и холодно, выбеливает цвета и обращает тени в уголь. За домом слышу бульканье и шелест голубей. Их перья становятся синими на фоне ярко-зеленой травы. Выхлопной воздух горячит, невозможно вздохнуть.
Тихо! кричит мать на плачущего ребенка.
Тихо! кричит бабка из окна на алкашей во дворе.
Тихо! кричит хозяйка на залившуюся лаем собаку.
Тихо! Тихо! Тихо! но летний веселый галдеж бьется стеклянными брызгами о кирпичные стены старых домов. А вокруг только разговоры о том, кто, что и как ел, будто бы это единственное, чем действительно стоит занять себя в этой жизни.
Смотрите, боги спустились с небес. Они тихо и мягко ступают по сорванным ветром, кружащим в теплом золотом воздухе лепесткам яблоневых цветов. Следы их земного пути рассыпаны желтыми одуванчиками по зеленому полю. Совсем скоро они побелеют и испарятся. Мимо бредут опоры ЛЭП, похожие на гигантских насекомых.
В учениях неоплатоников человек изображен каким-то протяженным или, может быть, растянутым через всю вселенную убывающего совершенства. От anima prima, высшей души, тянутся жилы чувственной anima secunda к низменному corpus - результату божественного воздействия на бесформенную, сырую материю. Мне еретически видится плотный спектр от синего к красному. И невозможно разделить полутона, где заканчивается красное тело и начинается синяя душа. Бесконечное блуждание вперед-назад. Материя, стремясь в бесформенное состояние, оскверняет величие и совершенство разума. Мироздание движется, чтобы застыть.
Неудивительно, что красный продержался в тени вплоть до 20-го века, на излете которого был смешан с дерьмом и приобрел тошнотворно желтый вид. Все, что осталось от красного - пожранный червями кусок сгнившего мяса. Вот он, ваш материализм.
Я не люблю красный. Просто он сейчас преследует меня. Красный - цвет моей мигрени. Цвет лопнувших капилляров в ослепших от усталости глазах любимого. Красный лежит в начале любви и в ее окончании. Красный - цвет моей меланхолии. Цвет моего покоя. Тускло горит фонарь в фотолаборатории. Пузырь красного света давит на рыхлую темноту. Черная желчь кипит внутри, выходит с паром моего дыхания и оседает серебром на отполированное коллодионное стекло. И все вокруг превратилось в градации серого, фактуру, композицию и контраст. Я делаю картинки и буду делать их до тех пор, пока не станет нестерпимо больно от накопившихся внутри меня слов. Пока они не начнут крушить мне ребра, продираясь наружу к белому свету чистого листа. Я выплевываю их, как выбитые зубы, и они скачут по бумаге, оставляя за собой нервный красный след. И станет легче, потому что наступит постепенно тишина и время делать картинки. А за границей резкости, чуть правее, под тенью Сатурна, сидит без действия задумчивая женщина с ключами от всех дверей во вселенной. Этот мир замер за секунду до того, как ворвутся в него всадники апокалипсиса. Тихо! Уже слышен стук копыт.
2018 год.
Больше мозговых слизней в моем telegram-канале
